Дети войны
БАКОВ ХАНГЕРИ ИЛЬЯСОВИЧ
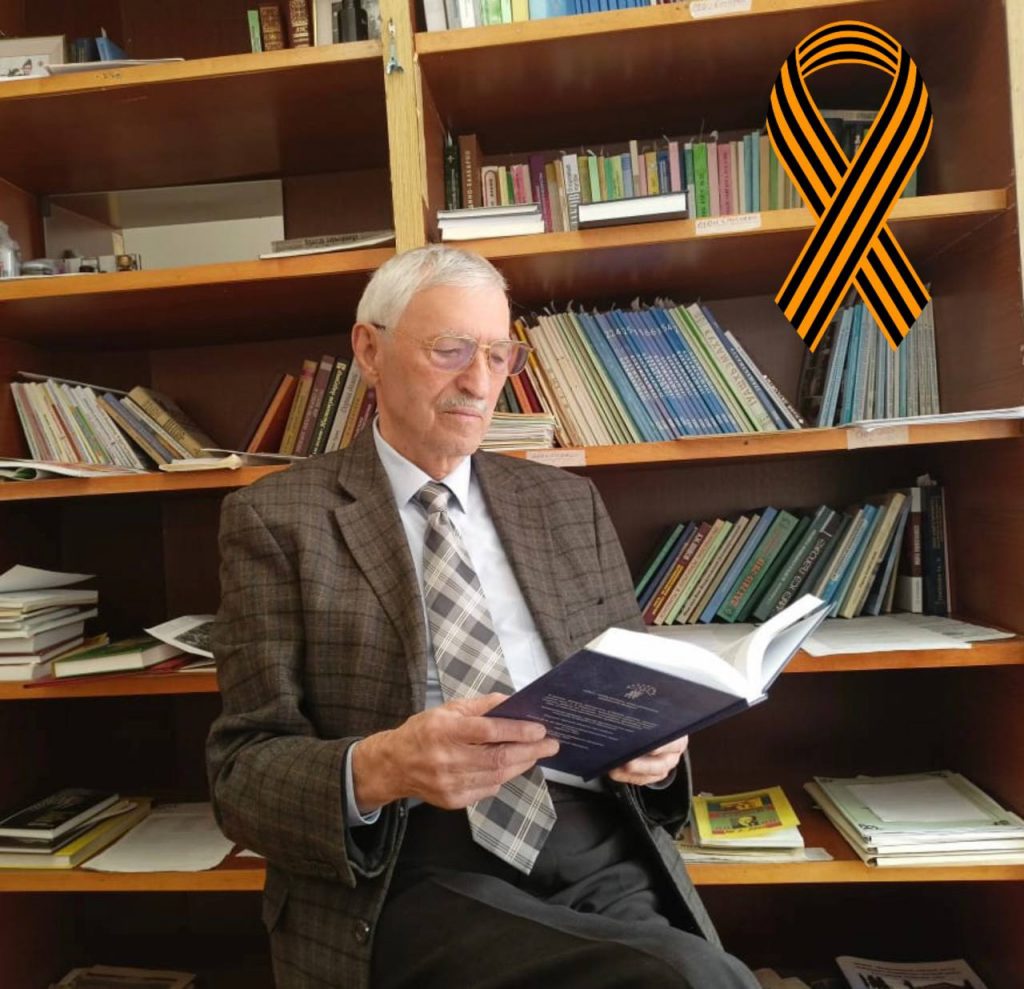
Доктор филологических наук, профессор, академик АМАН, заслуженный деятель науки Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики и Адыгеи. Награждён многочисленными почётными грамотами федеральных и региональных министерств и ведомств.
“Папа? Это слово так и не сорвалось с моих губ…”
В свои 35 лет отец пал смертью храбрых в жестоких боях под Сталинградом. Нас, троих детей, мама растила одна. Хрупкая женщина, вся ее жизнь была посвящена колхозному труду. От зари и до поздней ночи она неустанно работала в поле. В памяти всплывают картины детства, когда лошади были главной тягловой силой, а земля вспахивалась плугом, запряженным парой коров. Нередко мама брала нас, ребятишек, с собой на работу в поле. Чтобы мы не разбежались, она выкапывала в земле небольшую ямку и усаживала туда, словно птенцов в гнездо. Мама была воплощением энергии и неукротимой воли. Ее жизнь – пример самоотверженного труда и стойкости. Дожив до почтенных 92 лет, она оставалась немногословной, но дела ее говорили громче слов.
Военное детство… это вечный спутник голода и холода. Мама, словно волшебница, умудрялась добывать просо, из которого пекла грубоватый, но такой желанный хлеб. Этот хлеб был нашим спасением, нашей единственной пищей. Помню, как мама, собрав нас вокруг стола, делила этот драгоценный каравай на четыре части. Я, младший в семье, всегда был самым голодным. В детстве мне казалось, что меня обделяют. «Мама, ты нож ровнее держи!» – вырвалось у меня как-то. Эта наивная детская фраза на долгие годы стала семейной шуткой, напоминанием о голодных военных годах.
Черная весть о гибели отца, казенное «похоронкa», пришла в наш дом в далеком 1942-ом. В сухом казенном языке сообщалось, что он погребен в братской могиле в станице Клетской, что на волгоградской земле. Долгие 30-40 лет я посвятил безуспешным поискам его могилы, надеясь отдать дань памяти отцу, которого так и не узнал. Немцы… помню ли я их? Лишь смутные обрывки воспоминаний. В нашем ауле Жако, затерянном в горах Карачаево-Черкессии, их было немного. Помню мотоциклы с колясками, чужую речь. Вскоре они ушли, покатились на запад, в сторону Архыза. Там, в окрестностях Черкесска, развернулись ожесточенные сражения. Лишь однажды война коснулась и нашего мирного аула – с неба упала бомба. К счастью, обошлось без жертв, но страх надолго поселился в сердцах людей.
ГУТОВ АДАМ МУХАМЕДОВИЧ

Доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора адыгского фольклора ИГИ КБНЦ РАН, член Союза писателей России, Иностранный член Академии наук Абхазиия, Заслуженный деятель науки КБР. Имеет Почетные грамоты Президиума РАН, Парламента КБР и ЧР, Правительства КБР, ректората КБГУ, министерств и ведомств КБР, РА и КЧР, Президиума КБНЦ РАН, международных и российских общественных организаций.
“Сквозь лишения к надежде…”
Я родился в 1944 году в селении Аушигер, что в Кабардино-Балкарии. Отец вернулся с войны тяжелораненым, вскоре родился и я. Родители постоянно работали в поле, и, поскольку меня не с кем было оставить, брали с собой. Однажды я чуть не умер, еды всегда не хватало. Труд для каждого односельчанина был непомерно тяжел.
Поколение “детей войны” – так часто называют тех, чье детство пришлось на суровые военные и тяжелейшие послевоенные годы. Это люди, родившиеся незадолго до войны, в ее огненном горниле или в первые, полные лишений, годы после Великой Победы. Нас, “детей войны”, объединяет общий опыт: с самого раннего возраста мы познали голод, холод, нужду, а многие – и горечь безотцовства, а то и полное сиротство.
Вспоминая те времена, невольно приходит на ум шаблонная фраза о суровых испытаниях, выпавших на нашу долю. Но стоит остановиться и задуматься: а было ли когда-нибудь иначе для предыдущих поколений? Разве те, кто родился за несколько десятилетий до нас, не пережили крушение старой России, Гражданскую войну, коллективизацию, репрессии? А если углубиться в историю еще дальше, разве Кавказ не пылал в огне войн, унося жизни целых селений и вынуждая людей искать спасения на чужбине? И разве выжившие не теряли связь с родной землей, растворяясь в иноязычной среде?
Нет, поиски “счастливых поколений” в прошлом – занятие бесплодное. Каждое время ставило свои жестокие условия, и люди боролись, жили, надеясь на лучшее будущее. Они трудились, не жалея сил, не столько для себя, сколько для своих детей, внуков и правнуков. В каждом поколении жила вера в то, что их потомки будут жить счастливее и оценят это. Возможно, именно поэтому человек устроен так, что его взгляд всегда устремлен вперед, в будущее, а не назад. Чтобы оглянуться, нужно усилие, и взгляд в прошлое – лишь мимолетен. Неизменно же человек смотрит только вперед, с неугасающей надеждой.
Признаться, даже при самом оптимистичном взгляде в будущее, наши предки не могли увидеть безоблачный горизонт, лишь туманные обещания и неумирающую человеческую надежду. Не случайно народная мудрость гласит: “Надежда и сон – доброе отцовское наследство”. Как невозможно прожить без сна, так невозможно существовать и без надежды на свет впереди. Вот и мы, поколение “детей войны”, надеялись и всматривались в даль, туда, где задолго до нас наши отцы и деды тщетно искали этот свет.
И все же, мы выросли в действительно тяжелое время, в послевоенные годы, когда страна, казалось, была обессилена. А тут еще и жестокая засуха, словно добивая слабых, два года подряд обрушивалась на народ, как самый беспощадный враг. С другой стороны, ужасы войны, если и затронули кого-то из нас, то лишь в раннем детстве, и многое стерлось из памяти. В отличие от предыдущих поколений, нас не завоевывали орды Тамерлана, не строили пирамиды из наших костей, не топтали конями и танками, не гнали обманом и насилием с родной земли. Мы не гибли тысячами в дороге на чужбину и не становились кормом для рыб в Черном море. Нас не поднимали на штыки солдаты Белого царя, не ссылали в лагеря при “вожде народов”, не сжигали в Бухенвальдах и Освенцимах. Все эти страшные испытания выпали на долю поколений, предшествовавших нам.
И всё же, наше поколение “детей войны” вынесло свои, особенные тяготы, но сохранило главное – неугасимую надежду и веру в лучшее. И, вероятно, именно этот опыт лишений и надежды сделал нас такими, какие мы есть.
ЛАФИШЕВ МУХАМЕД ХАБАЛОВИЧ
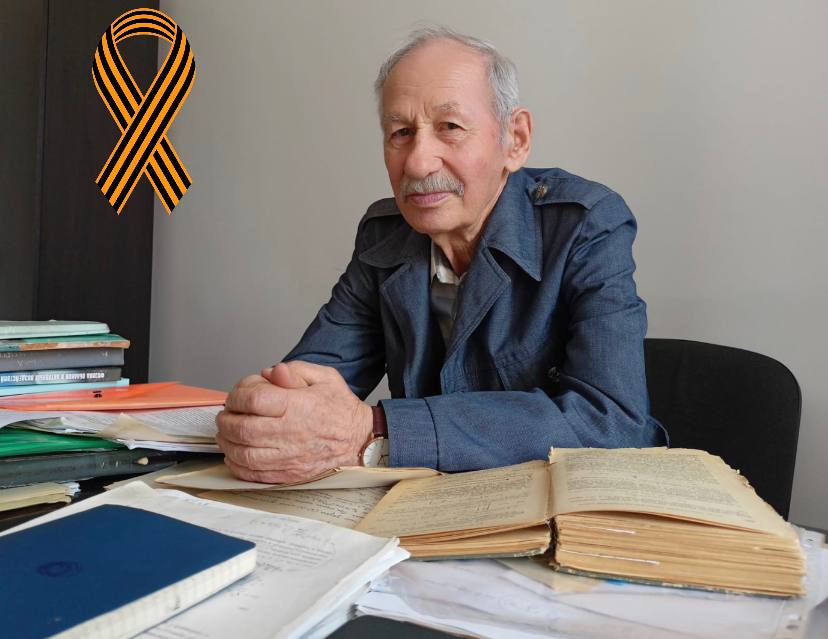
Доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела математического моделирования геофизических процессов ИПМА КБНЦ РАН. Награжден многочисленными почетными грамотами федеральных и региональных министерств и ведомств
«Когда немцы вошли в село Малка, мне только исполнилось пять лет. Мои приемные родители были пожилыми: отец Хабала Шхануков и мать Дзадзу Багова. Оба уже не работали и занимались домашним хозяйством. Мой родной отец, Беслан Лафишев, сын известного коннозаводчика Абубекира Лафишева, был расстрелян в 1937 году по постановлению тройки НКВД КБАССР. Ему принадлежало село Псыхурей. Незадолго до этих страшных событий он уехал в Турцию по делам, а по возвращении его судили как врага народа. После расстрела отца, мою мать жестоко избили. В Малке ее приютила бедная пожилая женщина, но вскоре она скончалась. Троих моих сестер разобрали по семьям разные люди. Девочки в семье всегда подмога. Дзадзу увидела меня в холодной комнате и говорила, что я ползал по трупу мамы. Она забрала меня с собой. Так я обрел дом, семью и сестру Асият, которая до этого была единственной дочерью моих новых родителей.
Захватчики вошли в село в конце 1942 года. У нас в доме было две комнаты; одну заняли несколько человек. Не могу сказать, что они плохо к нам относились. Напротив, были достаточно миролюбивыми: нередко угощали нас сладостями и ходили по дворам, говорили на ломаном «яйка, яйка». Также по дворам ходили румыны. Они забирали все, что было съедобным: сыр, сушеное мясо, молоко. Однажды им приглянулась наша корова, но мать пожаловалась немцам, и они выгнали румын со двора. Еще один случай помню: в Малке жила молодая женщина-еврейка. Немцы хотели ее расстрелять, но мама убедила их, что она кабардинка. К счастью, ее оставили в покое, и мама спасла женщину.
Вскоре наших постояльцев, остановившихся в селе, решили перебросить в Сталинград. После этого известия один из немцев, молодой фриц, прослезившись, пожаловался матери, что не хочет воевать, что никто не хочет, а их заставляют.
После войны отец работал в строительной бригаде, восстанавливал разрушенные дома. С нами он бывал нечасто. Как-то я пришел домой, а мать и сестра трудились в огороде. Я подошел к ним, и они сказали, что приготовили мне подарок. Оказалось, отец привез два куска белого хлеба…»
МАГОМЕД МАХМУДОВИЧ ЧОЧАЕВ

Заместитель директора ИСХ КБНЦ РАН. Отмечен высшими наградами страны, в том числе орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина. Награжден многочисленными почетными грамотами федеральных и региональных министерств и ведомств
Магомед Чочаев родился в январе 1942 года, а через 12 дней после рождения его отец, Махмуд Чочаев, был отправлен на офицерские курсы в далекую Кировскую область.
Магомед Махмудович Чочаев вспоминает:
“Спустя полгода, получив звание лейтенанта, отец ушел на Волховский фронт в 372-ю стрелковую дивизию в качестве политруководителя роты. Он дважды был ранен, участвовал в прорыве блокады Ленинграда и освобождал Эстонию от немецких захватчиков. Геройски погиб 19 марта 1944 года, так и не увидев, как растем мы, его дети. Говорят, отец с юности отличался хорошим воспитанием и усердием. Партийные руководители заметили его старательность и отправили учиться в Кабардино-Балкарскую комсомольскую школу. Карьера стремительно развивалась — от заведующего пионерским отделом до первого секретаря Черекского райкома партии. Ответственного и дисциплинированного молодого руководителя власти республики неохотно отпустили на фронт.
Но в ноябре 1944 года мать получила «похоронку. А незадолго до этого семью, как и многие другие, депортировали в Северный Казахстан. Позже мы перебрались в Киргизскую АССР, где климат был мягче и жизнь немного легче. Однако ничто не могло заменить утрату, и только фронтовые письма отца согревали воспоминаниями. Эти письма бережно хранятся и сегодня, напоминая о герое войны. В Фрунзе я пошел в школу, и детство продолжалось на чужбине вплоть до 1956 года, пока генсек Н.Хрущев не разрешил переселенцам вернуться на родные земли”
Сегодня Магомед Махмудович с тяжелым сердцем вспоминает годы своего нелегкого детства, свою маму — члена КПСС и экономиста машинно-тракторной станции Мисират Мамукоеву, бабушку и дядю.
Сам Магомед Чочаев награжден медалью «За доблестный труд» и был делегатом 16-го съезда ВЛКСМ от Чечено-Ингушской Республики. Его успешная работа была высоко оценена. В 30 лет его назначили главным агрономом района, а затем председателем колхоза «Красное знамя». Главной задачей в своей работе, как и у отца, он считал заботу о людях, живущих рядом с ним. За безупречную работу и выполнение повышенных обязательств хозяйства Магомед был отмечен высшими наградами того времени — орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина. Сегодня сын героя войны Махмуда Чочаева Магомед успешно продолжает трудовую деятельность в должности заместителя директора Института сельского хозяйства КБНЦ РАН.
ТАРЧОКОВ ХАСАН ШАМСАДИНОВИЧ

Ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией технологии возделывания полевых культур ИСХ КБНЦ РАН, кандидат сельскохозяйственных наук. Награжден многочисленными почетными грамотами федеральных и региональных министерств и ведомств
В сентябре 1942 года немцы заняли Курпские высоты. Более трех месяцев линия фронта проходила там, тянувшись от лесных массивов близ села Верхний Курп.
“Мне было тогда всего четыре года, — рассказывает Хасан Тарчоков. — Отец с самого начала войны ушел на фронт, и я жил с братом и дедушкой. Помню войну с тех самых пор, как фашисты заняли наше село. Их было много, и они были хорошо вооружены. Наши солдаты ушли в лес, а те, кто не успел, прятались во дворах. Один из них, грузин по национальности, забежал к нам. Дед вместе с нами укрыл его в окопе, который вырыл заранее. Находиться в доме было опасно, но солдат пробыл в убежище недолго — он понимал, что если его найдут, расстреляют всех. Через некоторое время он вышел и был обнаружен румынами. Эти были похлеще немцев — озлобленные и беспощадные. Солдата расстреляли на наших глазах. Мы с братом выглядывали из окопа и украдкой наблюдали за происходящим. После казни каждый румын посчитал своим долгом пустить пулю в бездыханное тело солдата. Когда фашисты покинули двор, дед вместе с восьмилетним племянником вырыл могилу посреди огорода и похоронил грузина. При жизни он ухаживал за могилой. После его смерти пионервожатая нашей школы вместе с ребятами организовала раскопки. Мы перерыли практически весь огород, но могилу не обнаружили. Если бы дед был жив, он показал бы то место”.
Битва за Курпские высоты стала одним из самых кровопролитных сражений на территории Кабардино-Балкарии. К этому рубежу захватчики стянули огромное количество живой силы и техники. В оборонительной системе советских войск было сосредоточено шесть дивизий и четыре полка. Ценой больших потерь удалось остановить боевые части противника, рвавшегося к нефтепромыслам Грозного и Баку. В окрестностях Курпа сложили головы более семи тысяч солдат и офицеров Красной армии. Сражавшаяся насмерть на этих высотах 317-я стрелковая дивизия формировалась дважды после гибели основного личного состава, но не отступила. В новогоднюю ночь 1943 года началось изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории Кабардино-Балкарии.
Отец Хасана Тарчокова с фронта вернулся только в 1947 году. Он воевал под Харьковом и попал в плен. По возвращении его посадили в тюрьму, и лишь в 1955 году реабилитировали.
“Когда я учился в нашем университете, преподаватель Виталий Лесев поинтересовался у студентов, откуда кто родом. Я сказал, что из Верхнего Курпа. Во время экзаменов он поставил мне автоматом зачет. Я был очень удивлен и, когда спросил, за что, Лесев ответил: «Ты свой зачет сдал еще в детстве у Курпских высот». Как оказалось, он был непосредственным участником тех сражений”.
ХАМИД АЛИЕВИЧ МАЛКАНДУЕВ

Заведующий лабораторией селекции и семеноводства колосовых культур ИСХ КБНЦ РАН, доктор сельскохозяйственных наук, Заслуженный деятель науки КБР
Он помнит войну с самого её начала. У отца было три сестры и два брата, один из которых работал директором школы в селении Кёнделен и жил неподалеку.
“В памяти остались их двор и грушевое дерево, — рассказывает Хамид Малкандуев. — Когда фашисты арестовали дядю, мать усадила нас, детей, под кроной груши, пытаясь отвлечь и успокоить. Мы мало что понимали. Дядю, тем временем, повели на расстрел. Позже отец долго откапывал бездыханное тело брата из противотанкового рва, куда его сбросили вместе с другими. Это место находится на выезде из Нальчика в сторону города Майский. Вместе с родственниками отец ворошил землю, переворачивая одно тело за другим. Лишь по платку сноха опознала мужа. Глаза, нос и уши были отрезаны. Когда захватчики вошли в Кенделен и оккупировали село, отец уже был арестован и находился под следствием. Утром мать забирала нас и уходила в пещеру на целый день. Ночью мы возвращались домой, где оставались продукты”.
А в 1944 году рано утром в дом постучали. Хамиду Малкандуеву на тот момент было всего семь.
“Хорошо помню, как офицер и двое солдат коротко зачитали приказ, дав на сборы полчаса времени. Мать разбудила нас, впопыхах собрала котомку с вещами, и мы все вместе, в сопровождении конвоя, поплелись на окраину села. Моросил дождь. Этот момент врезался в мою память. Потом были две недели дороги в товарных холодных вагонах. Люди не выдерживали: часто трупы выбрасывали на ходу. Ближайшие родственники — младший брат отца с семьей — оказались в другом составе. Их отправили в Джалалабадскую область, а нас — в Северный Казахстан. Разлука обернулась трагедией: дядя не смог пережить расставания с нами, всё корил себя за то, что не может помочь. На чужбине его сердце не выдержало, и он вскоре скончался”.
Зимы в Казахстане были суровыми; люди гибли от холода и голода. Совсем юному Хамиду не раз приходилось копать могилы. Вместо лопаты использовалась кирка: по-другому, вспоминает наш собеседник, землю в степи рыть зимой практически невозможно. Да и глубина этих могил была небольшой. Закапывали и сторожили, чтобы шакалы не растаскали трупы.
Спустя время семью разыскал дальний родственник по имени Борис Малкандуев. Он занимал внушительную для спецпереселенца должность.
“Кем именно он был, сейчас уже не скажу, но запомнилась его синяя шинель и офицерская выправка. Он пользовался большим уважением у людей, помогал продуктами и одеждой. Мама продавала платки и отрезы — этим и кормились. Вскоре Борис оформил нам вызов в Киргизию, где обосновалась родня мамы и отца. Незадолго до нашего отъезда бабушка выслала почтой 700 рублей, которые пригодились в дороге”.
Киргизия встретила мягким климатом. Счастливая встреча с бабушкой была омрачена страшной вестью о кончине деда, что чуть не убило мать Хамида. Брат её погиб на фронте, бабушка со снохой воспитывала внуков, позже узнала и о кончине деверя. Беды казались бесконечными, но вскоре жизнь стала более спокойной — хотя всё ещё голодной — но зато в кругу близких.
“Из всего детства на чужбине помню только один счастливый день: сосед Шохай Чипчиков как-то приготовил еды, собрал нас — детей, играющих на улице, и накормил досыта”.
Вскоре вернулся отец: Малкандуева-старшего освободили досрочно, и жить стало легче. В 1957 году, после возвращения на родную землю, отцу предложили вступить в партию, но он отказался.